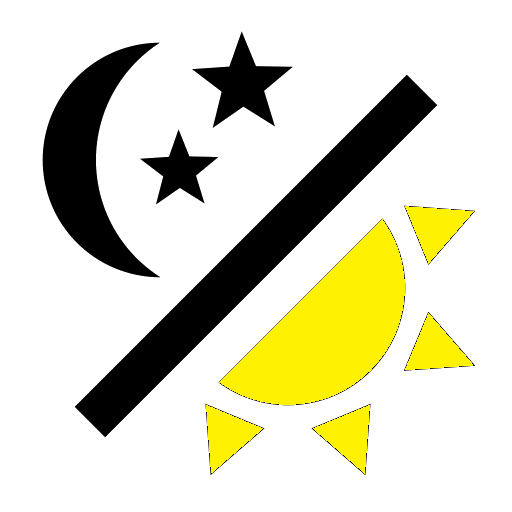В этой книге под одной обложкой собраны мемуарные записи Т.А. Варнек «Воспоминания сестры милосердия (1912-1922), М. Бочарниковой «В женском батальоне смерти (1917-1918)» и З.С. Мокиевской-Зубок «Гражданская война в России, эвакуация и "сидение" в Галлиполи глазами сестры милосердия военного времени (1917–1923)». Судьбы авторов этих правдивых и искренних рассказов во многом оказались похожи: совсем молоденькими, охваченные патриотическим порывом, они устремились на фронт, а после революции и раскола на белых и красных вступили в Добровольческую армию и до конца прошли с ней тяжкий путь поражений, закончившийся для них утратой Родины.
Татьяна Варнек родилась в богатой дворянской семье. Закончила одну из лучших женских гимназий России Л.С. Таганцевой, училась в Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств. Летом 1912 года поступила на курсы медсестер при Кауфманской общине. Это заведение имело высокую профессиональную репутацию и отличалось строгими правилами. Работать в общине было в моде у представительниц всех слоев Петербургского общества. Сразу после начала Великой войны Татьяна идет работать во фронтовые госпитали и работает медсестрой до весны 1918 года. Наступление в Галиции в 1914 году, тяжелые бои под Ригой в 1916, работа в госпиталях и военно-санитарных поездах - все это нашло свое отражение в ее мемуарах. Весной 1918 года Татьяна по «революционным» железным дорогам смогла добраться до семейного имения в Туапсинском районе. Чудом избежав гибели от рук большевистских солдат Таманской армии, она с семьей перебирается в Екатеринодар, где поступает на службу сестрой милосердия в Добровольческую армию. Дальше судьба Татьяны Варнек неразрывно связана с добровольцами: работа в Екатеринодарском госпитале, походы вместе с Терской казачьей дивизией, сыпной и возвратный тиф, последние бои в Северной Таврии и эвакуация в Константинополь. Татьяна имела полное право в 1922 году написать в дневнике: «Мы были уже почти беженками. Правда, поддерживало утешение, что мы до конца оставались верными армии и ушли, когда она перестала существовать».
Житомирский этапный лазарет
В моей палате лежал контуженный солдат Иван, фамилию не помню, он лежал тихо, как будто без сознания. Потом стал постепенно понимать, что от него хотели. А потом и то, что ему говорили, но сам еще не произносил ни слова – был немой. Я постоянно к нему подходила, что-то рассказывала, он с удовольствием слушал и жестами старался объяснить, что ему надо, и всегда следил за моими глазами. И вдруг он стал издавать какие-то звуки и со страшным усилием закричал: «Сестрица!» – и потом долго все повторял, точно хотел запомнить. За этим первым словом сказал другое, тоже часто повторяющееся в палате, за ним третье. Я поняла, что он говорить может, но забыл слова. Стала с ним заниматься, учить его разным словам. И то слово, которое он раз сказал, он уже не забывал. Так я научила его говорить, и, когда он выписался, он мог разговаривать.
С санитарами у нас установились прекрасные отношения, и мы им вполне доверяли: санитары были не только наши подчиненные, но и друзья! Сколько раз на ночном дежурстве, когда все спят, все тихо, подходит санитар, присаживается на пол около моего стула и начинает рассказывать про свою деревню, про свою семью. Часто мы им писали письма домой, а иногда доходило до того, что они приходили с нами советоваться.
Мария Бочарникова на первых страницах своих воспоминаний рассказывает о том, как она стала добровольцем:
–«Сестрица, можно к вам?
– Прошу, доктор! Ко мне в кабину вошла женщина-врач, держа в руках газету:
– Могу вас порадовать, вы все рветесь на фронт добровольцем, а в сегодняшней газете есть сообщение, что в Петрограде формируется Женский батальон смерти.
Я схватила протянутую газету.
– Боже, как вы покраснели! – засмеялась она. – Неужели поедете?
– Конечно! Немедленно дам телеграмму о принятии в батальон.
– Ну что ж, если решили, тогда с Богом!
Этот разговор происходил в конце мая 1917 года, в городе Дильмане, в Персии, где я работала сестрой милосердия в местном госпитале. Через два дня я уже двигалась в двуколке к границе России (135 верст)».
Вскоре Мария вступает в первый женский регулярный батальон, разрешенный Временным правительством. В то время юной Бочарниковой не исполнилось даже восемнадцати лет… А дальше – обучение строевой подготовке, строгая дисциплина, непростой быт. Не обходилось и без комических инцидентов. Ночью на отдаленном посту раздается выстрел. Караул несла четвертая рота, прибежавшему караулу часовой заявляет: «В кустах кто-то крадется с зажженной папиросой». Странным «неприятелем» оказался... светлячок, за что вся рота была прозвана светлячками.
После торжественной присяги роту, где служила М. Бочарникова, не отправили на фронт. 25 октября 1917 года казаки отказались защищать Зимний дворец и ушли, оставив пулеметы юнкерам. Доброволицы встали на их место.
Бой в Зимнем дворце
25 октября 1917 года около 9 часов вечера получаем приказ выйти на баррикады, построенные юнкерами перед Зимним дворцом…
В 9 часов вдруг впереди загремело «ура!» Большевики пошли в атаку. В одну минуту все кругом загрохотало. Ружейная стрельба сливалась с пулеметными очередями. С «Авроры» забухало орудие. Мы с юнкерами, стоя за баррикадой, отвечали частым огнем…
Нас обстреливали от арки Главного штаба, от Эрмитажа, от Павловских казарм и Дворцового сада. Штаб округа сдался. Часть матросов прошла через Эрмитаж в Зимний дворец, где тоже шла перестрелка. В 11 часов опять начала бить артиллерия. У юнкеров были раненые, у нас одна убита.
Прослужив впоследствии два с половиной года ротным фельдфебелем в 1-м Кубанском стрелковом полку, я видела много боев, оставивших неизгладимое впечатление на всю жизнь, но этот первый бой, который мы вели в абсолютной темноте, без знания обстановки и не видя неприятеля, не произвел на меня должного впечатления. Было сознание какой-то обреченности. Отступления не было, мы были окружены. В голову не приходило, что начальство может приказать сложить оружие. Был ли страх? Я бы сказала, как и раньше, при стоянии на часах в лесу, сознание долга его убивало. Но временами охватывала сильная тревога. Во время стрельбы делалось легче. В минуты же затишья, когда я представляла, что в конце концов дойдет до рукопашной и чей-то штык проколет мой живот, и он, как спелый арбуз, затрещит по всем швам, – то, признаюсь, холодок пробегал по спине. Надеялась, что минует меня чаша сия и я заслужу более легкую смерть – от пули. Смерть нас не страшила. Мы все считали счастьем отдать жизнь за Родину.
«Женскому батальону вернуться в здание!» – пронеслось по цепи. Заходим во двор, и громадные ворота закрываются цепью. Я была уверена, что вся рота была в здании. Но из писем г-на Зурова узнала, со слов участников боя, что вторая полурота защищала дверь. И когда уже на баррикаде юнкера сложили оружие, доброволицы еще держались. Как туда ворвались красные и что происходило, не знаю.
Нас заводят во втором этаже в пустую комнату. «Я пойду узнаю о дальнейших распоряжениях», – говорит ротный, направляясь к двери. Командир долго не возвращается. Стрельба стихла. В дверях появляется поручик. Лицо мрачно. «Дворец пал. Приказано сдать оружие». Похоронным звоном отозвались его слова в душе...
Бой в Зимнем дворце
25 октября 1917 года около 9 часов вечера получаем приказ выйти на баррикады, построенные юнкерами перед Зимним дворцом…
В 9 часов вдруг впереди загремело «ура!» Большевики пошли в атаку. В одну минуту все кругом загрохотало. Ружейная стрельба сливалась с пулеметными очередями. С «Авроры» забухало орудие. Мы с юнкерами, стоя за баррикадой, отвечали частым огнем…
Нас обстреливали от арки Главного штаба, от Эрмитажа, от Павловских казарм и Дворцового сада. Штаб округа сдался. Часть матросов прошла через Эрмитаж в Зимний дворец, где тоже шла перестрелка. В 11 часов опять начала бить артиллерия. У юнкеров были раненые, у нас одна убита.
Прослужив впоследствии два с половиной года ротным фельдфебелем в 1-м Кубанском стрелковом полку, я видела много боев, оставивших неизгладимое впечатление на всю жизнь, но этот первый бой, который мы вели в абсолютной темноте, без знания обстановки и не видя неприятеля, не произвел на меня должного впечатления. Было сознание какой-то обреченности. Отступления не было, мы были окружены. В голову не приходило, что начальство может приказать сложить оружие. Был ли страх? Я бы сказала, как и раньше, при стоянии на часах в лесу, сознание долга его убивало. Но временами охватывала сильная тревога. Во время стрельбы делалось легче. В минуты же затишья, когда я представляла, что в конце концов дойдет до рукопашной и чей-то штык проколет мой живот, и он, как спелый арбуз, затрещит по всем швам, – то, признаюсь, холодок пробегал по спине. Надеялась, что минует меня чаша сия и я заслужу более легкую смерть – от пули. Смерть нас не страшила. Мы все считали счастьем отдать жизнь за Родину.
«Женскому батальону вернуться в здание!» – пронеслось по цепи. Заходим во двор, и громадные ворота закрываются цепью. Я была уверена, что вся рота была в здании. Но из писем г-на Зурова узнала, со слов участников боя, что вторая полурота защищала дверь. И когда уже на баррикаде юнкера сложили оружие, доброволицы еще держались. Как туда ворвались красные и что происходило, не знаю.
Нас заводят во втором этаже в пустую комнату. «Я пойду узнаю о дальнейших распоряжениях», – говорит ротный, направляясь к двери. Командир долго не возвращается. Стрельба стихла. В дверях появляется поручик. Лицо мрачно. «Дворец пал. Приказано сдать оружие». Похоронным звоном отозвались его слова в душе...
Второй кубанский поход (1918)
Бои шли беспрерывно, и армия очень быстро продвигалась вперед. За армией продвигался и наш лазарет; передвигались на крестьянских телегах и возили за собой раненых. Как-то остановились в только что занятой станице Егорлыкской, помесив непролазную черноземную грязь, которая не успела еще высохнуть после весенних дождей. Здесь мы оставались недолго, жители разбежались, и станица была пустынна. Мы проголодались, а продуктов достать было негде. Узнали, что в станице есть какая-то лавчонка, где можно кое-что купить из съестного. Мы с Женей пошли в эту лавчонку и только вошли, как услышали свист летящего орудийного снаряда. Хозяин падает на пол, и мы последовали его примеру, что нас совсем не спасло бы. Снаряд зарылся в огороде вблизи дома лавочника, но, к счастью, не разорвался. Мы поспешили уйти из этого места, забыв, зачем пришли, и даже голод прошел. Я вспомнила напутственный молебен Божией Матери, чья рука отстранила опасность. Красные от времени до времени обстреливали станицу, и, вероятно, поэтому лазарет не задерживали там долго и двинули дальше. Перед отъездом мы пошли осмотреть станицу. Остановились на углу какой-то улицы, услышав опять свист летящего снаряда - как будто летит над нашими головами. Мы с Женей, по "опыту" в лавке, пригнулись к земле и вдруг слышим смех и возглас: "Сестры, кому вы кланяетесь?" И, о ужас! На другой стороне на углу перекрестка стоял генерал Деникин с офицерами своего штаба. Нам стало стыдно, и мы поторопились уйти. Им было смешно, что мы удрали, и они нам вслед смеялись. С тех пор я никогда больше не кланялась снарядам.
Вскоре была отбита у красных станица Торговая, и наш лазарет направили туда, где он расположился (или, как военные говорили, "развернулся") в здании какой-то школы. Коек, нанесенных из станицы, было очень мало. На них положили приехавших с нами тяжелораненых, а вновь прибывающих раненых клали прямо на пол, на солому. Условия были очень тяжелые и негигиеничные, медицинского персонала было мало. Один врач, пришедший с лазаретом, и другой, вероятно из станицы, были заняты все время в операционной и перевязочной. Сестер с дипломами было только три - старшая сестра, Женя и я, а несколько остальных, ничего общего с медициной не имевших, шли с обозом и помогали нам как санитарки или сиделки. Работа, ввиду недостатка персонала, была очень тяжелая, особенно на ночных дежурствах, когда нельзя было не только спать, но и присесть, чтобы дать ногам отдохнуть от дневной беготни. Ночью света не было, о керосиновых лампах и думать нельзя было - работали при свечах, а свечей было ограниченно, поэтому обходы ночью делались впотьмах, и свечи зажигались, когда нужно было обходить тяжелораненых.