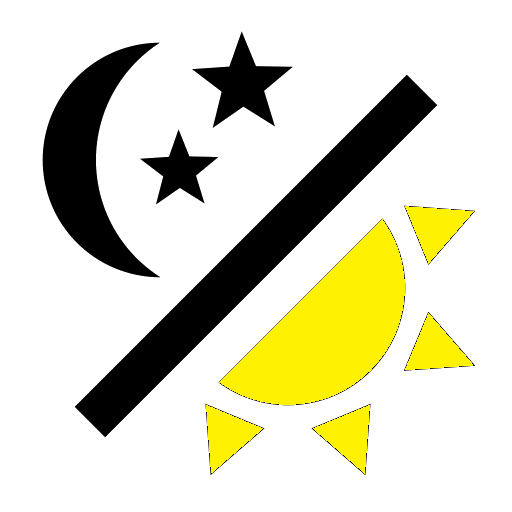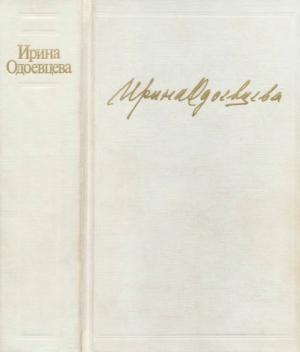Ирина Одоевцева, по ее признанию, с юности мечтала стать поэтом и только поэтом. Родилась она в Риге в 1895 году (по другим источникам – в 1901) в семье состоятельного адвоката. В начале Первой мировой войны семья переехала в Петербург. Через некоторое время Одоевцева вышла замуж за своего кузена Сергея Попова. Брак, о котором она впоследствии редко упоминала, вскоре распался.
В годы революции семья Одоевцевой, как и все, испытывала бытовые тяготы: голодали, нечем было топить квартиру. Но и тогда юная девушка не выходила из дому без перчаток и шляпы, а зимой одетой в котиковую шубку с горностаевым воротником. Она много читала, писала стихи, а свою трудовую книжку впервые предъявила только для того, чтобы записаться на поэтическое отделение института «Живое Слово». Это было в ноябре 1918 года – именно этой датой открываются ее воспоминания «На берегах Невы».
Ее наставником стал поэт Николай Гумилев. Учиться у него было нелегко. К своим ученикам мэтр был строг и неумолим. Когда в 1919 году открыли Литературную студию, Ирина Одоевцева была единственной, перешедшей туда из «Живого Слова» по решению самого Гумилева. Поэт принял в ее судьбе большое участие, снабжал книгами из своей библиотеки, пополняя пробелы в ее знании литературы, истории и философии, заставлял читать Шопенгауэра, Ницше, иностранных поэтов.
Именно Гумилев представил свое открытие, «маленькую поэтессу с огромным бантом», Георгию Иванову, будущему мужу Одоевцевой. Произошло это 30 апреля 1920 года на вечере, устроенном в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого. К тому времени Одоевцева уже прославилась своей «Балладой о толченом стекле» (1919). Последующие два года были полны для нее самыми интенсивными переживаниями: первые литературные успехи, незабываемые прогулки по Летнему саду с Г. Ивановым, трагическое известие о гибели Гумилева, знакомство с поэтами, которые навсегда станут ее кумирами…
Впечатления тех лет позднее нашли свое отражение в ее мемуарах.
Зимой 1922 года И. Одоевцева и Г. Иванов уезжают за границу, сначала в Берлин, а затем во Францию.
Как вспоминает Одоевцева в книге «На берегах Сены», самым главным в парижской жизни межвоенных десятилетий была для нее удивительно насыщенная интеллектуальная жизнь русской диаспоры. В ее эпицентре находились Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Каждое воскресенье они устраивали в своей квартире на улице Колонель Бонне журфиксы, собиравшие весь цвет русского зарубежья. Эти домашние встречи, быть приглашенными на которые почиталось за особую честь, послужили основой для создания более открытого литературного общества «Зеленая лампа». Одоевцева была частым посетителем этих собраний.
Многим она запомнилась своей женственностью, элегантностью. Не исключено, что именно из-за того, что она была такой хрупкой, очаровательной модницей, современники часто недооценивали ее литературные способности. Злые языки даже поговаривали, что стихи за нее пишет Г. Иванов, провозглашенный после публикации своего сборника «Розы» лучшим поэтом эмиграции. Сама же Одоевцева, втихомолку мечтая о славе, не стремилась оказаться в центре внимания, предпочитала наблюдать за другими, и эти наблюдения послужили через много лет основой ее воспоминаний.
Г. Иванова не стало в 1958 г. После его смерти И. Одоевцева переехала в дом престарелых в Ганьи под Парижем, где собралась целая колония русских писателей и где она прожила 20 лет. Там Ирина Владимировна была особенно дружна с Юрием Терапиано, который убедил ее начать писать мемуары. Именно здесь зародилась книга воспоминаний «На Берегах Невы», опубликованная в 1967 г. Автор отмечает в предисловии: «Я пишу не о себе и не для себя…, а о тех, кого мне дано было узнать «на берегах Невы». Я пишу о них и для них. О себе я стараюсь говорить как можно меньше и лишь то, что так или иначе связано с ними… Я пишу эти воспоминания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите как живых тех, о ком я вспоминаю». Действительно, читатель найдет здесь великолепно выписанные литературные портреты Гумилева, Белого, Мандельштама, Сологуба и других ее современников, но о самой Ирине Одоевцевой – лишь крупицы по всей книге разбросанных сведений.
В 1978 году И. Одоевцева вышла замуж в третий раз за своего давнего поклонника писателя Якова Горбова. При переезде к мужу из Ганьи в Париж была потеряна рукопись второй части воспоминаний. Но сохранившиеся черновики, публикации в газетах, помощь друзей и собственная феноменальная память помогли Ирине Владимировне восстановить утраченные материалы. Мемуарная книга «На берегах Сены» была издана в 1983 г. в Париже. Во второй книге мемуаров «На берегах Сены» каждому герою посвящена отдельная глава, хотя главы эти взаимосвязаны, и читатель в главе о Бальмонте найдет черты характера Адамовича, а в описаниях «Зеленой лампы» у Мережковских встретит Поплавского, Тэффи и многих других. Природная доброта и благожелательность Ирины Одоевцевой не позволяют ей сгущать тени на портретах своих современников, но рисует она их живыми, с их человеческими слабостями и достоинствами.
Мемуарная проза Одоевцевой принесла ей большую известность. К сожалению, незавершенной осталась третья книга воспоминаний «На берегах Леты».
В 1981 году писательница вновь овдовела, впереди ее ждали новые трудности и болезни. Неожиданное предложение вернуться в Россию ознаменовало еще один поворот в судьбе Ирины Владимировны, даже в преклонном возрасте оставшейся «легкой на подъем», сохранившей оптимизм, интерес к жизни и парижский лоск. В 1987 году она вернулась в город своей юности, где ее окружили заботой и вниманием. Благодаря своему возвращению Ирина Одоевцева оказалась ближе к российскому читателю, чем иные писатели первой волны эмиграции.
Библиография:
Боброва Э.И. Ирина Одоевцева. Поэт, прозаик, мемуарист : литературный портрет / Э.И. Боброва. – Москва : Наследие, 1995. – 156 с.
Колоницкая А. «Все чисто для чистого взора…» : (беседы с Ириной Одоевцевой) / А. Колоницкая. – Москва : Воскресенье, 2001. – 200 с.
Рубинс М. Парижская проза Ирины Одоевцевой // Одоевцева И. Зеркало : избранная проза. – Москва, 2011. – С. 5-26.
На берегах Невы
3 августа 1920 года я читала впервые «Балладу о толченом стекле» на литературном утреннике Дома литераторов. Уже как настоящий, полноценный поэт. Ведь никаких ученических и дилетантских выступлений здесь не полагалось.
Волновалась ли я? Не особенно. Я в мечтах давно пережила все свои выступления и успехи. И когда они наконец стали реальностью, отнеслась к ним довольно сдержанно.
В день моего первого выступления Гумилев зашел за мной. Я вышла к нему уже готовая, в туфлях на высоких каблуках и чулках. В обыкновенное время я, следуя тогдашней моде, - ходила в носочках. Но для торжественного выступления они – я понимала – не годятся. На мне синее платье. Не белое кисейное с десятью воланами, не розовое, а синее шелковое. Для солидности. И в волосах, как птица, бант. Синяя птица – в цвет платья и как у Метерлинка.
Гумилев осматривает меня внимательно.
- Бант снимите. Бант тут не к месту.
Я не сразу уступаю. Ведь бант – часть меня. Без него я не совсем существую.
Но Гумилев настаивает:
- Верьте мне, с бантом слишком эффектно.
Выступать с бантом он разрешил мне только через два месяца:
- Теперь вам не только можно, но и следует выступать с бантом. Он еще поднимет вашу популярность…
***
Мандельштам сидит в кресле под яркой хрустальной люстрой, откинув голову и делая протянутыми вперед руками пассы, сомнамбулически распевает, то повышая, то понижая голос: Веницейской жизни мрачной и бесплодной…
На диване Блок, Кузмин и Лозинский. Гумилев, скрестив руки на груди, слушает с видом Наполеона, осматривающего поле битвы после одержанной им победы. Рядом с ним Георгий Иванов, как всегда подчеркнуто элегантный, насмешливый, с челкой до бровей. Мне очень не нравится эта челка, хотя ее и придумал «сам Судейкин».
Анна Радлова, сверкая тяжеловатой восточной красотой, слушает, картинно застыв. Пяст в своих клетчатых панталонах, прозванных «двухстопными пястами», прислонился к стене с чрезвычайно независимым выражением лица, будто он здесь случайно и все это его не касается.
Я уже слышала «Веницейскую жизнь» и все-таки с наслаждением, затаив дыхание, слушаю ее снова. Мандельштам привез ее из своих «дальних странствий» и читал ее у Гумилева. Георгий Иванов успел уже сочинить на нее пародию, переделав «Веницейскую» жизнь на «Милицейскую». Переделав ее всю нелепо и комично, вплоть до последних строк.
У Мандельштама:
Человек родится. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.
А у Георгия Иванова:
Человек родится. Он же умирает.
А милиция всегда нужна.
Георгий Иванов пошел на пари (на коробку папирос) с Гумилевым и Мандельштамом, что прочтет «Милицейскую жизнь» на вечере какой-то рабочей ячейки, где они втроем должны выступать. И никто ничего не заметит.
Георгий Иванов выиграл пари. Он действительно прочел «Милицейскую жизнь» с эстрады вместе со своими стихами, и ей, как и его стихам, похлопали должным образом. А в антракте к нему подошел Кривич, сын Иннокентия Анненского, тоже поэт, и рассыпался в комплиментах:
- Меня просто потрясло ваше стихотворение о милиции! Совсем новая манера! Волшебное преображение реальности…
***
Было это весной 1921 года. Я зашла за Гумилевым в 11 часов утра, чтобы идти вместе с ним в Дом искусств. Он сам открыл мне дверь кухни и неестественно обрадовался моему приходу. Он находился в каком-то необычайно возбужденном состоянии. Даже его глаза, обыкновенно сонные и тусклые, странно блестели, будто у него жар.
- Нет, мы никуда не пойдем, - сразу заявил он. – Я недавно вернулся домой и страшно устал. Я всю ночь играл в карты и много выиграл. Мы останемся здесь и будем пить чай.
Я поздравила его с выигрышем, но он махнул на меня рукой…
- Поздравить вы меня можете с совершенно необычайными стихами, которые я сочинил, возвращаясь домой. И так неожиданно, - он задумался на мгновение. – Я и сейчас не понимаю, как это произошло. Я шел по мосту через Неву – заря и никого кругом. Пусто. Только вороны каркают. И вдруг мимо меня совсем близко пролетел трамвай. Искры трамвая – как огненная дорожка на розовой заре. Я остановился. Меня что-то вдруг пронзило, осенило. Ветер подул мне в лицо, и я как будто что-то вспомнил, что было давно, и в то же время как будто увидел то, что будет потом. Но все так смутно и томительно. Я оглянулся, не понимая, где я и что со мной. Я постоял на мосту, держась за перила, потом медленно двинулся дальше, домой. И тут-то и случилось. Я сразу нашел первую строфу, как будто получил ее готовой, а не сам сочинил. Слушайте:
Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лир, и дальние громы –
Передо мной летел трамвай…
Это совсем не похоже на его прежние стихи. Это что-то совсем новое, еще небывалое. Я поражена, но и он сам поражен не меньше меня. Когда он кончил читать, у него дрожали руки…
На берегах Сены
Ту зиму, зиму 1925-1926 года, мы с Георгием Ивановым проводили в Ницце. Из Парижа Георгий Адамович писал нам, что он постоянно бывает у Мережковских и что они, как когда-то в Петербурге, возобновили свои «воскресенья», игравшие немалую роль в дореволюционной литературной жизни…
И вот мы на 11-бис, рю Колонель Боннэ, у Мережковских…
Здесь, за исключением Адамовича и Оцупа, Георгия Иванова и меня, почти все «молодые поэты». Молодые не столь годами, как творчеством. Все они начали печатать свои стихи уже в эмиграции.
Всех их я вижу впервые. Я обвожу их взглядом, перескакивая с одного незнакомого лица на другое, запоминая лишь какую-нибудь деталь – серьезный, сосредоточенный вид Терапиано, красивые глаза Мамченко под резко очерченными темными бровями, энергичное, жизнерадостное выражение лица Кнута, очки Злобина, горделиво закинутую пышноволосую голову Бахтина.
Все они, вместе с Гиппиус и Мережковским, Адамовичем и Оцупом, сливаются в одну картину. Ее надо непременно запомнить. Ее нельзя забыть. Ведь это одно из самых интересных и значительных событий, что сейчас происходят в эмиграции, - «воскресенье» на рю Колонель Боннэ.
***
Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице совершенно необычайное зрелище. Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинной косой – тогда такие китайцы еще встречались, - на восточных людей в тюрбанах, на японок в вышитых хризантемами кимоно, с трехъярусными прическами, на магарадж и прочих.
Но на идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережковского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед. Я и сама, встретив их впервые, не смогла не остановиться, пораженная их видом.
Они шли под руку – вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой шляпе, замысловатого, совершенно немодного фасона – тогда носили маленькие «клоши», надвинутые до бровей, - с моноклем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшенная розой, а после визита Мережковских к королю Александру Сербскому – орденом Саввы II степени…
Они ежедневно обходили небольшую часть Булонского леса, называемую Парк де ля Мюэтт, а потом, тоже по раз и навсегда заведенному ритуалу, шли пить кофе в кафе на площади, садясь всегда за один и тот же столик.
В кафе их хорошо знали. Не только гарсоны, но и постоянные посетители. Знали, что это deux grands ecrivains russes [два больших русских писателя], и к ним относились с должным уважением.
И во время прогулки, и в кафе они говорили не умолкая. Они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не чувствовали ни «груза времени», ни даже границ между жизнью и смертью. О живых и мертвых они говорили совершенно одинаково…
Ларошфуко в своих «Максимах» утверждает, что «существуют хорошие браки, но восхитительных браков не бывает». И это, к сожалению, правильно. В особенности у нас, русских, и особенно в художественных и литературных кругах… Но брак Гиппиус-Мережковский опровергает утверждение Ларошфуко. Это был поистине «восхитительный брак».
***
Марина Цветаева — наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу.
Зинаида Шаховская в своих «Отражениях» приводит слова Марины Цветаевой, произнесенные ею со вздохом при их последней встрече: «Некуда податься — выживает меня эмиграция».
Она была права — эмиграция действительно «выживала» ее, нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом — к ней.
Мы не сумели ее оценить, не полюбили, не удержали от гибельного возвращения в Москву. Не только не удержали, но даже, скорее, толкнули на этот пагубный шаг.
Я хотела бы отчасти искупить свой грех.
В том, что Марина Цветаева — прекрасный стилист, теперь согласны все. Не только прекрасный, но, по всей вероятности, лучший стилист нашего времени — лучше Бунина, Белого, Сологуба, Мандельштама...
Марина Цветаева рассказывала, как она отнесла свои «Юношеские стихи» в Лито и как почти через год ей их вернули с отзывом Брюсова: «Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответствующей современности, бесполезны».
Трудно поверить, что он действительно думал это. По всей вероятности, он просто мстил ей, так как был «очень против нее».
Стихи эти прелестны, полны подлинной юношеской свежести и непосредственности. Излишне прибавлять, что они свидетельствуют о ее огромном таланте и оригинальности...
Нельзя без волненья читать эти стихи, они как будто перекликаются с ее трагической гибелью и одновременно дополняют образ молодой, счастливой Марины Цветаевой из «Повести о Сонечке».
***
Как это ни странно, но мы с Юрием Константиновичем [Терапиано] почти не были знакомы до моего переезда в Ганьи - вернее, наше знакомство было чисто шапочное — как говорили в те далекие довоенные годы...
То, какую роль ему предстоит сыграть в моей литературной жизни, я тогда не предчувствовала. А роль эта, без преувеличения, оказалась очень большой.
После смерти Георгия Иванова я решила распроститься с литературой раз и навсегда. Решение мое, как мне тогда казалось, было непоколебимым и вызывалось следующими обстоятельствами: в литературных кругах стали распространяться слухи, что после смерти Георгия Иванова мне придется уйти из литературы, так как писать я не умею, и все романы и стихи за меня писали сначала Гумилев, а потом Георгий Иванов. И я решила действительно замолчать. Об этом решении в первый же день моего переезда в Ганьи я сообщила Терапиано, спросившего меня, что я теперь пишу.
- Ничего не пишу и писать не буду. Кончено! Ни строчки больше не напечатаю! Никогда!
Он тут же стал доказывать невозможность такого категорического, опрометчивого решения и уговаривать меня отказаться от него. Но я и слушать его не хотела...
Однако он, не опасаясь моего гнева, все продолжал уговаривать и «приставал» ко мне со все возрастающей настойчивостью.
А время шло. И я в конце концов уступила ему. Ведь это происходило, когда я еще не справилась со своим горем, и у меня просто не хватило сил сопротивляться.
И я опять послала свои стихи в «Новый журнал», а потом начала печататься в «Русской мысли» и понемногу вошла в литературную жизнь.
Терапиано торжествовал и праздновал победу. Но ему и этого казалось мало. Он стал настаивать, чтобы я писала воспоминания...
Вся заслуга - если, конечно, это можно считать заслугой, - принадлежит ему. Как я могу не быть ему благодарна?
Так началась наша дружба. За двадцать лет ежедневного общения мы ни разу не поссорились и даже не повздорили.