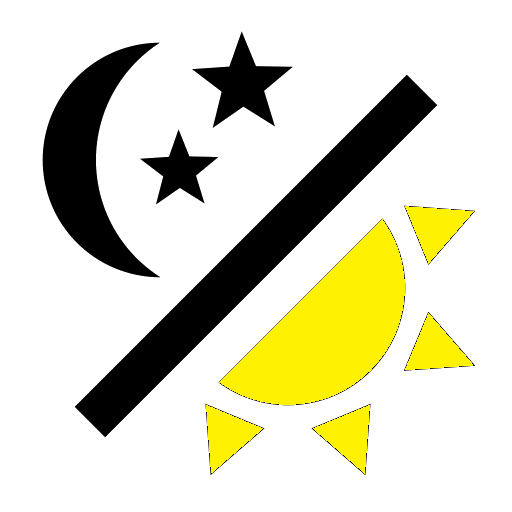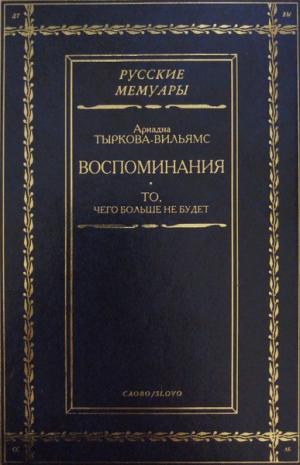риадна Тыркова родилась в ноябре 1869 года в знатной, но не богатой дворянской семье. Отец Владимир Алексеевич Тырков, мировой судья, действительный статский советник, происходил из древнего новгородского рода, упоминаемого в летописях XIV века. Мать ее была дочерью офицера. Несмотря на то, что отец всю жизнь придерживался консервативных взглядов, а мать была, по словам Тырковой, «типичной шестидесятницей», родители жили дружно. Однако ветры исторических перемен не обошли стороной их семью. Старший брат Ариадны, двадцатилетний студент Аркадий, участвовал в покушении на Александра II, из-за чего отцу пришлось покинуть государственную службу.
Когда Ариадне исполнилось семь лет, ее отдали в петербургскую частную гимназию княгини Оболенской, где она, по собственному признанию, стала «коноводом» среди своих подруг.
После неудачного замужества Ариадна Владимировна осталась с двумя детьми на руках - сыном Аркадием и дочерью Соней. Она начала зарабатывать на жизнь газетными корреспонденциями и вскоре стала одной из самых заметных журналисток своего времени. Личная оппозиционность, семейные традиции, дружба с самыми известными людьми тех лет - писателями, мыслителями и политиками либерального толка - способствовали тому, что Тыркова втянулась в водоворот общественной жизни. Ее дважды арестовывают, и в конце концов она бежит за границу.
В эмиграции Тыркова знакомится с молодым англичанином, корреспондентом лондонской газеты «Таймс», талантливым филологом Гарольдом Вильямсом. Несмотря на то, что он был на много лет моложе Ариадны Владимировны, они поженились и счастливо прожили вместе до самой смерти Вильямся в 1928 году.
Возвратившись после амнистии 1905 года в Россию, Тыркова вступила в кадетскую партию, стала членом ее Центрального комитета и ее парламентским корреспондентом. Как журналист сотрудничала с изданием «Приднепровский край», позднее работала редактором в таких журналах и газетах, как «Нива», «Русская мысль» и «Вестник Европы».
После октябрьской революции 1917 года Ариадна Владимировна вместе с публицистом и общественным деятелем А.С. Изгоевым выпустили несколько номеров газеты «Борьба», призывавшей выступать против советской власти. Она участвовала в организации офицерских отрядов в Петрограде, вынуждена была перейти на полулегальное положение.
Весной 1918 года Тыркова с мужем и дочерью через Мурманск отправилась в Англию, где встречалась с британскими политиками и уговаривала их начать военную интервенцию против большевиков. Позднее в Лондоне она создала Общество помощи русским беженцам и бессменно руководила им на протяжении двадцати лет.
Во время Второй мировой войны, проживая во Франции, Тыркова-Вильямс была интернирована немцами как британская подданная. В 1951 году с семьей сына она переехала в США и, несмотря на преклонный возраст, участвовала в создании Российского политического комитета в Нью-Йорке, активно участвовала в церковно-общественной деятельности, продолжала работать над своими мемуарами.
Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс умерла в Вашингтоне в 1962 году.
Хронологически воспоминания А.В. Тырковой охватывают период с 80-х годов XIX века до 1918 года. В первой части описаны дворянское детство и юность мемуаристки, во второй ее молодость, начало журналистской деятельности, активная политическая работа в кадетской партии. Она увидела свою эпоху ясным, умным, по-женски зорким взглядом и описала ее свободно, страстно и одновременно пристрастно, не только как свидетельница, но прежде всего как участница великих событий. И портреты известных деятелей того времени - это не записи корреспондентки или интервьюерши с почти неизбежным в таких случаях подобострастием или ошельмованием, а воспоминания равной о равных, не важно, пишет ли она о политических соратниках или о недругах...
Наиболее близкими нам по образованию людьми были священники. Но их семинарское просвещение было захудалое, кастовое. Наша приходская церковь была в Коломне, в семи верстах от нас. Там был отец Петр, скучный старик. Он робел, терялся перед помещичьим великолепием моего отца, который к тому же был действительным статским советником, что давало ему право титуловаться «ваше превосходительство». Высоцкий священник, отец Павел, который через воскресенье служил в церкви против нас, ни перед кем не робел и моего отца продолжал называть Владимир Алексеевич. Он был человек очень неглупый и совершенно бескорыстный, но запойный пьяница. Когда это на него находило, он даже в церковь являлся в безобразном виде. Выйдет из царских врат на амвон, глянет исподлобья на паству и вдруг брякнет:
- Я ваш пастырь, вы мои овцы. Пошли все вон!
Другой раз вместо молитвы затянул известный романс:
- Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится в даль...
Потом проспится и старается не показываться людям на глаза. Стыдно. Жил он со своей красивой и милой попадьей на погосте, в пяти верстах от Высокого, около кладбища... Мы с мамой иногда ездили на могилы и заходили к священнику. Если он был в полосе запоя, то нас принимала матушка и печально жаловалась:
- Ведь вот, когда трезвый, так ангел. А с пьяным сладу нет. Опять жалоба на него была. Вызывали в консисторию. Как уволят, что я с детьми буду делать?
Но его не увольняли. Мужики любили своего хоть и пьяненького, но прямодушного, хорошего попика и всегда за него перед епархией заступались. Так и прослужил отец Павел, то пьяный, то трезвый, до конца своей мятежной жизни.
***
Более частым моим гостем был Иван Каляев, который два года спустя убил в Москве великого князя Сергея Александровича. В Ярославле никто не предугадывал, что этого тихого, задумчивого юношу ожидает кровавая слава террориста... Социалисты-революционеры, к партии которых он принадлежал, были заговорщиками, конспираторами, что не помешало им поставить во главе боевой организации, нервного центра партии, великого провокатора, агента охранки Азефа. Среди многих своих дьявольских дел Азеф был организатором и убийства великого князя Сергея Александровича, которое он подготовлял вместе с Борисом Савинковым. А исполнение этого преступления они поручили Каляеву. Но в Ярославле я поила чаем не террориста, - я даже не знала, что Каляев социалист-революционер, - а молодого, приятного, но малозаметного, скорее некрасивого поэта. Хороши у него были только глаза, вернее взгляд, печальный и чистый. Каляев любил приходить, когда других гостей не было. Ему легче было разговаривать вдвоем, чем в обществе. Он перелистывал мои книги. Мне только что один инженер подарил несколько томиков французских поэтов в изысканных переплетах из бархата, русской парчи, набойки. Каляев с наслаждение брал в руки сонеты Эредиа и ласково гладил тонкими пальцами темно-синий бархат переплета. Иногда просил меня прочесть их. Я раскладывала перед ним снимки с картин. Я привезла с собой фотографии с произведений Бегаса, литовского пастуха, который еще мальчиком-подпаском вырезал деревянные фигурки. Из него вырос настоящий скульптор. Бегас часто изображал Христа. Его своеобразная скульптура напоминала деревянные распятия, простирающие свои руки на перекрестках в его родной Латвии. Каляев подолгу всматривался в скорбный лик Спасителя и мягким, тихим голосом толковал замыслы Бегаса:
- Смотрите, как идет линия усталых, опущенных плеч. Какая благодатная сила в руках, даже распятых. Как из них источается таинственная, святая, кроткая мощность...
Мне думается, что сердце Каляева было способно принять божественную истину. В прежние времена такие, как он, романтики уходили в монастыри, молитвою и постом преодолевали злую силу. В наш полный соблазнов век он поддался дьявольскому искушению, поверил в жертвенность терроризма. Может быть, его грызли сомнения? Может быть, после убийства он почувствовал раскаяние? Но в этом я не уверена...
От наших встреч с Каляевым в Ярославле у меня осталось воспоминание о нем как о начинающем поэте. Когда, два года спустя, я прочла в газетах, что Иван Каляев бросил бомбу в великого князя Сергея Александровича, я была поражена. Образ этого тихого искателя истинного пути так не вязался с убийством. Убить безоружного человека без суда, без права защиты, по постановлению анонимной кучки заговорщиков! В психологии террористов есть что-то страшное. Какое-то дьявольское наваждение. С одной стороны, идеализм, доходящий до самопожертвования, с другой - зверская расправа с противниками. Как могли люди с таким духовным складом, как мой брат или Каляев, вместить в себе эти крайности?
***
Я была все еще больна и решила ехать полечиться в Швейцарию. В Женеве я разыскала свою старою школьную подругу Надю Крупскую, теперь Ульянову. Я ее после их ссылки в Минусинск не видала, вообще несколько лет не видала, но была совершенно уверена, что она будет так же рада видеть меня, как я ее. И не ошиблась... Партийная рознь еще не провела между мной и Надей неприступной черты, хотя я, благодаря моему судебному процессу и бегству, была уже публично зачислена в лагерь либералов, да и внутренне была либералкой. А Надя целиком отдавалась работе в партии с.-д., где Ленин осторожно, упорно отвоевывал себе место вождя...
Я раньше Ленина не встречала и не читала. Меня он интересовал прежде всего как Надин муж. Невысокий, кажется ниже ее, приземистый, широкое скуластое лицо, глубоко запрятанные, небольшие глаза. Невзрачный человек. Только лоб сократовский, выпуклый. Не наружностью он ее пленил. А пленил крепко. Я сразу почувствовала, что там, за дверью, из-за которой изредка доносился бумажный шорох, сидит хозяин, что вокруг него вращается жизнь и дочери, и матери. Когда он вышел к обеду, некрасивое лицо Нади просияло, похорошело. Девической, застенчивой влюбленностью засветились ее небольшие голубые глаза. Она была им поглощена, утопала, растворялась в нем, хотя у нее самой был свой очень определенный характер, своя личность, несходная с ним. Ленин не подавил ее, он вобрал ее в себя. Надя, с ее мягким любящим сердцем, оставалась сама собой. Но в муже она нашла воплощение своей мечты. Не она ли первая признала в нем вождя? Признала и с тех пор стала его неутомимой, преданной сотрудницей. Помогала ему собирать ядро единомышленников, из которых он в 1917 году сковал коммунистическую партию, фундамент беспощадной советской власти.
После ужина Надя попросила мужа проводить меня до трамвая, так как я не знала Женевы. Он снял с вешалки потрепанную каскетку, какие носили только рабочие, и пошел со мной. Дорогой он стал дразнить меня моим либерализмом, моей буржуазностью. Я в долгу не осталась, напала на марксистов за их непонимание человеческой природы, за их аракчеевское желание загнать всех в казарму. Ленин был зубастый спорщик и не давал мне спуску, тем более что мои слова его задевали, злили. Его улыбка - он улыбался не разжимая губ, только монгольские глаза слегка щурились - становилась все язвительнее. В глазах замелькало острое, недоброе выражение, …а я еще задорнее стала дразнить Надиного мужа, не подозревая в нем будущего самодержца всея России. А он, когда трамвай уже показался, неожиданно дернул головой и, глядя мне прямо в глаза, с кривой усмешкой сказал:
- Вот погодите, таких как вы, мы будем на фонарях вешать.
Я засмеялась. Тогда это звучало как нелепая шутка.
- Нет. Я вам в руки не дамся.
- Это мы посмотрим.
На этом мы расстались. Могло ли мне прийти в голову, что этот доктринер, последователь не им выдуманной, безобразной теории, одержимый бесом властолюбия, а может быть, и многими другими бесами, уже носил в своей холодной душе страшные замыслы повального истребления инакомыслящих. Он многое планировал заранее. Возможно, что свою главную опору, Чека, он уже тогда вынашивал.
- Борман А.А. А.В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына / А. Борман. - Лувэн ; Вашингтон : [б. и.], 1964 с. - 333 с.
- Хайлова Н. Люди из примечаний. "В кадетской партии я была своего рода enfant terrible" / Н. Хайлова // Россия XXI. - 2012. - № 3. - С. 150-167.