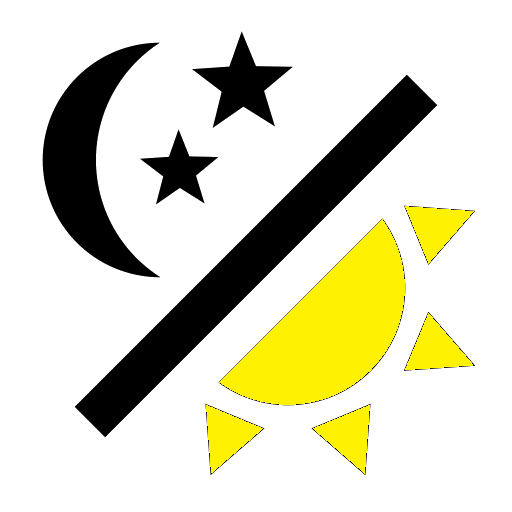«...Родившись в России на заре XX века, я тем самым оказалась сонаследницей определенного достояния, принадлежащего моему народу. Это богатство обратилось для меня в дым, в мираж. Совсем ребенком мне придется с пустыми руками выйти в дальний путь и, странствуя, лишь подбирать колосья в чужих полях. Это странствие позволит мне стать свидетелем многих потрясений... Нет, нет: я ни о чем не жалею и нисколько не жалуюсь! Я просто собираюсь рассказать историю одной жизни, вплетенную в большую Историю», - пишет в предисловии к своим воспоминаниям поэт и прозаик Зинаида Алексеевна Шаховская (1906-2001).
Она родилась в семье, принадлежавшей к старинному дворянскому роду, ведущему свое начало от киевского князя Владимира. Названа в честь прабабушки Зинаиды Карловны Росси - дочери знаменитого архитектора.
Россия в сознании Шаховской запечатлелась преимущественно деревенская, та, где проходило ее детство (имение Матово под Тулой) и где она прожила несколько нелегких месяцев кровавой смуты 1917-1918 гг. В 1920 году, уговорив мать, которая не хотела эвакуироваться, Зинаида с сестрами покидает Россию, в которой остался отец, уверенный, что скоро все вернется «на круги своя». По легенде матовских старожилов, князь Шаховской в 1921 году замерз на улице, сторожа зимой какой-то склад.
Образование, начатое в России в Екатерининском институте, Зинаида продолжала в Американском колледже Константинополя, в католическом монастыре Берлеймон в Брюсселе, в Протестантской школе социального обеспечения в Париже. До Второй мировой войны сотрудничала в эмигрантских изданиях. Входила в литературное объединение «Единорог», участвовала в работе парижского Союза молодых писателей и поэтов. Во время войны работала сестрой милосердия в госпитале под Парижем, участвовала в движении Сопротивления. В 1942 году, через Гибралтар проникнув в Англию, стала редактором Французского информационного агентства в Лондоне. Позднее вела журналистскую работу при союзнических армиях, передавала репортажи с Нюрнбергского процесса. В течение десяти лет являлась главным редактором парижской газеты «Русская мысль», печаталась в эмигрантских журналах «Современные записки», «Русские записки», «Новый журнал» и др., а также в периодических изданиях в Англии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Франции, США. Широкую известность ей принесли романы, написанные по-французски под псевдонимом Жак Круазе, а также исторические исследования.
Зинаида Алексеевна Шаховская была лауреатом премии Парижа, дважды лауреатом Французской Академии, офицером ордена Почетного легиона, командором Ордена искусств и словесности.
Свидетельница двух мировых войн, революции, исхода русской эмиграции, Шаховская оставила правдивые, живые и блестяще написанные воспоминания, которые увидели свет под общим подзаголовком «Таков мой век».
Тени
Птицы еще не успели своим прилетом возвестить весну, как советская власть опять напомнила нам о себе - на этот раз в облике молодого человека в кителе, приятной наружности, коему было предписано начать следствие по поводу контрреволюционных деяний «матовских вредителей». Лейтенант Виктор Модлинский, молодой юрист из Харькова, происходил из прогрессивной буржуазной среды; демобилизованный во время революции, он после Октября назначен был следователем в неведомую ему нашу губернию. И это было не случайно: такова была политика правительства. Опасаясь, что между земляками могут возникнуть симпатии, действующие в пользу тех, кого собиралась «ликвидировать» новая власть, она посылала своих следователей, пропагандистов и карателей туда, где они прежде никогда не бывали и где никого не знали.
Вежливый, но с ледяным лицом, Модлинский прибыл в крестьянской повозке в сопровождении двух товарищей; он не сомневался в том, что увидит на месте «злостных врагов народа». Но не успел он предъявить свой ордер на реквизицию одной из наших комнат (он собирался вести на месте тщательное следствие), как ему сказали, что никакая реквизиция не нужна: его примут как гостя. Это его успокоило: видимо, он приготовился к иному приему. Широким жестом он отправил обратно в Тулу двух своих телохранителей.
Вечером его пригласили разделить наш семейный ужин - и действительно, какие могли быть в Матове преступные тайны, что нам было от него скрывать? За столом Виктор встретил офицеров одного с ним возраста, с тем же опытом фронтовой жизни, явно озабоченных лишь одним: как бы им и дальше продолжать жить в деревне, на земле. Через неделю или дней через десять он уже подружился с теми, кому приехал угрожать. Он говорил с отцом о сельском хозяйстве, с матерью о музыке и быстро убедился в том, что «враги народа» далеко не чудовища, которых рисовало ему его воображение. Его малороссийский говор и некоторые непривычные для нас обороты речи часто вызывали у нас улыбку, но он не обижался. К тому же очень скоро несчастный Виктор, уже покоренный общей атмосферой матовского дома, был окончательно «нокаутирован» тем, что всегда угрожает молодым. Он подпал под чары Цирцеи - моей сестры Вали, которая разбила уже не одно сердце, в том числе и двоюродного брата Александра.
Виктор был человеком честным. Сочтя, что при подобных обстоятельствах он не может продолжать порученное ему дело, он отправил рапорт об отставке и остался у нас, как новый член Матовской коммуны.
***
Предвоенные годы (1929-1939)
С большой симпатией и восхищением относилась я к двум очень разным женщинам: к тонкой и умной Надежде Тэффи, настоящей даме, и щедрой, порывистой дикарке Марине Цветаевой. Могла ли она не быть одинокой? Марина всегда парила на каких-то высотах и удивлялась, когда другие отказывались перепрыгнуть вслед за ней с одной вершины на другую. Вспоминаю тот день, когда в бедной своей квартирке в Ванв (большую часть своих доходов она имела от продажи связанных ее дочерью шапочек) варила она яйца всмятку и говорила мне о Райнере Марии Рильке. Вода выкипела, кастрюлька накалилась докрасна... А Марина продолжала говорить, и на бледном лице ее зеленые глаза - глаза ночной птицы - видели не эту нищенскую кухню, но что-то совсем иное. Она пребывала в мире абсолюта, где нет места ни лжи, ни хитрости. В ней жили ритмы, звуки, страсти, все прочее исключающие. Никто никогда не достигал ее высот, потому что мужчин, которых она любила, и друзей, которых имела, наделяла она в щедрости своей недостижимыми простым смертным добродетелями. Не избалованная вниманием - конечно, в повседневной жизни отношения с ней были непросты - как была она благодарна за малейшее проявление симпатии! И что видела она во мне, молодой женщине, робевшей перед ее гением? Уж, конечно, не то, что было в действительности...
Всю свою жизнь Марина страдала - она родилась с оголенными нервами. И настал день, когда летом 1939 года, справедливо рассудив, что эмиграция ее не понимает (а кто мог бы ее понять?), она приняла решение вернуться в СССР, куда звал ее, вероятно, по заказу, Сергей Эфрон.
Путь Марины Цветаевой лежал через Брюссель; здесь мы в последний раз встретились. Я умоляла ее не ехать в Россию. «Я больше не могу, - повторяла она, - выпихивает меня эмиграция». Но я не сдавалась: «Марина Ивановна, подумайте, живя здесь, вы можете еще мечтать, что в России вам будет хорошо. А если в России вам будет плохо, то и мечтать будет больше не о чем». И еще я говорила ей вот что: «Как сможете вы, с вашим характером, беспрекословно подчиняться всему, что там будут от вас требовать? И сможете ли вы молчать, как велит осторожность?» - «Что бы ни случилось, я всегда буду с преследуемыми», - твердо сказала она мне. Но я и так это знала. Чем стала ее жизнь в СССР? Может быть, когда-нибудь узнаем. Но смерть ее, завершившая трагическую ее жизнь, уже говорит о многом. В 1941 году Марина Цветаева повесилась недалеко от Казани (в Елабуге).
В своей статье «Искусство при свете совести» Марина Цветаева писала: «Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы... И зная это, в полном разуме и твердой памяти... утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная большее, творю меньшее. Посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд слова - на нем я чиста».
***
Странный мир
В доме на Порта Пинчиана горничная провела меня в маленькую комнату, стены которой были увешаны портретами русских писателей. Здесь жила старшая дочь Льва Толстого, Сухотина-Толстая. Ей, как и Вячеславу Иванову, было 80. Маленькая, с энергичным лицом, она вошла решительным и быстрым шагом, о котором я знала из рассказа Ивана Бунина о первой встрече с Толстым: «...Человек быстрый, легкий, устрашающий, с пронизывающим взглядом...» Я задавала себе вопрос: «Похожа ли дочь на отца, такие ли у нее «выступающие вперед надбровья» и его «маленькие пытливые глаза»? Да, она была на него похожа. Она обладала темпераментом Толстого, его огромной жизненной энергией, его физической силой, скрывавшейся под женской хрупкостью. Когда она говорила, ее сходство с отцом чувствовалось еще больше. Ее голубые глаза, - у отца они были серые, - будто ощупывали меня...
Я спросила о семейной драме Толстых.
«В ней не было виновных, - ответила мне с твердостью в голосе старая дама, - только несчастные...» И она повторила еще раз: «Да, все были несчастными, никто не виноват».
Незаметно наш разговор перешел на другие темы.
«Как он умел развлекать! Он сочинял песенки, чтобы нас рассмешить!»
Вокруг нас на полках были расставлены книги Толстого и книги о Толстом на разных языках: японском, литовском... Сухотина-Толстая доставала из ящика фотографии своего отца в детстве, юности, в окружении учеников-последователей, в кругу семьи, в старости. На всех фотографиях Толстой с неизменно пронзительным взглядом, а в облике что-то животное, от чего он пытался избавиться всю свою жизнь. За фотографиями Толстого последовали портреты членов его семьи.
«Толстые - очень старинный дворянский род, но графский титул они получили сравнительно недавно. Вот, посмотрите, первый граф Толстой, - ее голос стал несколько ироничным. - Здесь нечем хвалиться, титул был ему дарован Петром Великим в знак благодарности за убийство царевича Алексея».
Перед моими глазами мелькали лица разных поколений Толстых и, наконец, фотография маленькой Сони, правнучки писателя. Соня была женой Сергея Есенина.
Сухотина-Толстая на минутку остановилась, словно подумав о мертвых, и продолжала:
«Из всех детей Толстого в живых осталось только двое, моя сестра Александра, живущая в США, и я - гражданка Франции. Мой внук - итальянец, племянник - француз, Соня - в СССР... Свои воспоминания о Толстом и нашей семье я завещаю Национальной библиотеке».
Она встала, взяла корзинку для рукоделия.
«Посмотрите, что сделала для благотворительной распродажи в пользу православной церкви в Риме!»
В ее руках появились куколки. Они были одеты точно так же, как одевались крестьяне Тульской губернии, где находилось фамильное имение Толстых. Имение нашей семьи находилось там же. Мы почувствовали себе «земляками», стоя перед окном, выходящим на Порта Пинчиана, вспоминали родные пейзажи, среди которых прошло мое детство и значительная часть жизни этой старой дамы.